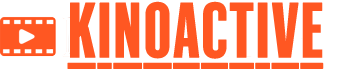На 47 ММКФ в рамках конкурсной программы «Русские премьеры» показали полнометражный дебют Марии Рейзен «Самозванцы». Оператор Михаил Агранович, композитор Юрий Потеенко и художник Евгений Митта — целое кружево талантов сплелось в работе над фильмом. Ключевые фигуры этой многослойной истории — три Бориса: Ельцин, Годунов и Берков. Последний ушел из жизни, не успев завершить экранизацию пушкинской драмы. Главную роль журналистки Лизы, взявшейся доработать фильм учителя, исполнила Линда Лапиньш. В кино также снялись Александр Адабашьян, Анна Михалкова, Егор Бероев и Сергей Шакуров. О предвосхищении тренда на 90-е, киноадаптациях русских классиков и причинах посмотреть это кино мы поговорили с режиссером Марией Рейзен.
Как возникла идея фильма и почему вы решили экранизировать эту историю?
Идея возникла у автора сценария Сергея Шумакова в процессе их с Георгием Лордкипанидзе длительных карантинных прогулок по Москве. А еще до этого была читка трагедии Пушкина «Борис Годунов» со студентами в мастерской Сергея Леонидовича во ВГИКе. Сначала обсуждали, как можно было бы поставить «Бориса Годунова», а потом родилась, на мой взгляд, очень точная параллель с 1993 годом. Когда сценарий попал мне в руки, дальше я его уже не выпускала.
Делилась ли съемочная группа воспоминаниями событий ельцинского переворота?
Да, и я сама тоже всё помню, несмотря на то, что мне тогда было всего семь лет. Съемочная группа разделилась на несколько частей. Те, кто был за границей, в Италии, Франции, смотрели на происходящее только по телевизору, у них было отраженное восприятие. Часть тех, кто был в Москве, сидели дома как мыши. Мне самой не разрешали подходить к окнам, и где-то до 15 лет у меня сохранялся страх подходить к ним. А были и люди с активной позицией, которые придерживались противоположных точек зрения и выходили на «баррикады» с двух сторон. Это тоже было смутное время, которое могло перерасти в глобальную катастрофу.
Читать Борис Борису рознь: «Самозванцы» — витиеватая драма о судьбах Родины
У вас получился многослойный фильм, в котором есть место и сценам из «Бориса Годунова», и личной драме героев, и документальным вставкам. Как вам удалось не запутаться в такой сложной структуре и создать цельное произведение?
Мне кажется, всё объясняется документальным кино, которым я много занималась. Помимо этого у нас на площадке работала режиссер-документалист Света Осипова, с которой мы сложили документальную линию из хроники. На финальном этапе к этой части работы подключился киновед Денис Федорин. К сожалению, половину хроники просто нельзя ставить на большой экран, потому что она сохранилась в настолько плохом качестве… Есть очень интересные кадры, которые уже нельзя взять… Когда исходники оказывались низкого качества, нам приходилось менять не только их, но также и то, что стояло до и после. Это был бесконечный процесс, и именно поэтому мы так долго, почти три года, делали фильм.
Это ваш первый полный метр после работы над документальным кино и коротким метром. Какие инсайты в связи с этим появились?
Я окончила ВГИК в 2009 году, и за всё это время не совершила даже попытки снять полный метр… Я считаю, что, если нечего сказать, надо молчать. А тут представилась хорошая возможность. Это сродни способам научиться плавать: кто-то долгие годы занимается с тренером, а кого-то сразу бросают в воду. В моем случае это второй вариант, потому что материал, конечно, очень сложный. У меня постоянно были сомнения, туда ли я всех веду? Развеять их помогали долгие разговоры со съемочной группой. Собирались воспоминания о 1993 годе, и так находился общий знаменатель..

Были ли в фильме такие роли, на которые вы сразу видели конкретных актеров?
Да, в роли сценариста Забродского я сразу увидела Александра Артемовича Адабашьяна. Он долго болел, и мы сначала никак не могли встретиться, но я его дождалась — и счастлива этому. Остальных героев мы искали долго. На Лизу мы вместе со вторым режиссером посмотрели где-то 100 человек только вживую. Еще было много фотографий, встреч по зуму, визиток, самопроб артистов из других городов… Но когда вошла Линда, я поняла, что, слава Богу, мы нашли Лизу; к этому моменту руки уже начинали опускаться. У нас с продюсерами был спор насчет возраста главной героини. Они считали, что ей должно быть 25-27, а я говорила, что не может быть меньше 35. Потому что всем прекрасным молодым артисткам, которых мы смотрели, с таким трудом надо было объяснять, что такое пейджер, почему на телефоне кнопки… Линда вс знала и про 1993 год, и про Пушкина. Она пришла абсолютно подготовленная. И чисто внешне я ровно так и видела Лизу.
При просмотре фильма многим как раз особенно понравился её образ. Вы рассказывали, что в процессе работы с Линдой Лапиньш настолько «раскопали» образ Лизы, что потом с трудом «закапывали» большую часть обратно. Можете рассказать, что из найденного осталось за кадром?
Мы, русская школа, грешим этим, потому что склонны переоценивать сложность материала. Наверное, полгода мы с Линдой всё это раскапывали: подтексты, мотивацию, язык тела, внутренние действия, когда ты говоришь одно, а думаешь другое. Мы хотели добиться достоверности, но у нас такие страсти кипели, что приходилось градусы снижать. Мы срочно стали всё закапывать обратно, потому что для кино это совершенно не нужно. Для театра, наверное, было бы уместно. Меня, например, упрекали на пресс-конференции, что Лиза не реагирует на события в Останкино. Но у нас есть разнообразные варианты во всех сценах, мы пробовали разные краски. При отборе дублей мне очень помог режиссер монтажа Сергей Иванов. Я считаю, что у него безупречный вкус, и он был согласен с тем, что для донесения мысли совсем необязательно рыдать и рвать на себе рубашку. Там и так всё понятно. В самом сценарии заложены такие тонкие настройки, что надо было удержаться от высокого внешнего градуса, он должен был быть внутри.
Читать «Игра на выживание» — остросюжетный сериал с Лапиньш
В вашем фильме Лиза становится соавтором оскароносца, соглашаясь доснять его кино. На месте героини вы поступили бы так же?
В такой же ситуации я оказалась сама, когда после смерти моего папы заканчивала его документальный фильм. Мне, естественно, тоже совершенно не хотелось этого делать, но продюсеры решили, что больше некому. Ты просто стараешься сделать так, как это видел он, пытаешься выдержать уровень. Поэтому Лизу я прекрасно понимаю. Мне кажется, это я. Она абсолютно так же, как и я, ни на что внешне не реагирует в стрессовой ситуации. Я никогда не буду рвать на себе волосы, рыдать и биться головой о стену. Когда всё пройдет и никого рядом не будет — может быть. А в моменте ты сразу начинаешь думать, что делать. Поэтому мне её реакция совершенно понятна.
Фильм вписывается в волну современных трендов переосмысления 90-х и киноадаптаций литературных произведений. Что выделяет его в этом ряду?
Сценарий был написан в 2021 году, то есть это прямое пророчество. Мы припозднились из-за того, что я так застряла с постпродакшном. Сергей Леонидович предугадал весь этот шум по поводу 90-х. Так что это не «опять 90-е» — сначала был сценарий Шумакова, а потом уже всё так совпало. Видимо, времена выбирают себе фильмы.

Ваше кино доносит мысль о том, что мы живем в потоке истории. Как часто вы это ощущаете?
Мне не повезло, потому что я всё время это ощущаю. Это очень действует на нервы. Мне кажется, коннотации и параллели можно видеть каждую секунду. Было бы здорово всем вместе проанализировать то, что уже с нами происходило и избежать трагедий, ведь уже столько раз всё повторялось.
В прошлом году все обсуждали фильм «Онегин» Сарика Андреасяна, а на 46 ММКФ показывали «Евгения Телегина» Виктора Тихомирова. В этом году все говорят о «Пророке» Феликса Умарова, а вчера на фестивале мы смотрели «Отель “Онегин”» Ирины Евтеевой. В своем фильме вы тоже задействуете пушкинский текст. Как думаете, с чем связан такой большой ажиотаж вокруг этой фигуры?
Мне кажется, вокруг Пушкина ажиотаж, во-первых, потому, что он является пророком в своем отечестве. Во-вторых, это самые популярные и проверенные его произведения — в плане драматургии в них всё идеально выстроено. С одной стороны, к этому материалу страшно прикасаться, с другой — он отзывается в умах и сердцах всех наших соотечественников.
Какой русский писатель может оказаться следующим в очереди на бум киноадаптаций?
Пожалуй, Лев Николаевич Толстой. Его «Анна Каренина» и «Война и мир» — самые распространенные и наиболее легко визуализируемые, мне кажется.
Читать «Пророк. История Александра Пушкина»: Рифмы и панчи Солнца русской поэзии
Атмосфера «Самозванцев» мистическая и загадочная. А происходили ли какие-нибудь необычные, странные случаи на площадке?
Начнем с того, что дача режиссера — это моя дача, фамильная, прадедушкина. На мой взгляд, дача Беркова такой и должна быть. Что касается мистических или божественных проявлений, то у нас удивительным было то, что группа образовалась сама, мне кажется, я тут ни при чем. Мы до последнего были уверены, что мальчика Николку мы не найдем, но он нашелся. А девочку, которая сыграла дочку Лизы, просто вылитую Линду, мы нашли буквально перед съемкой. Первый съемочный день был в её день рождения — Ане исполнилось семь лет. А в кадре она действительно заснула и ничего играть не пришлось. Она просто очень устала, было 12 часов ночи.
По датам так постоянно совпадало, что мы снимали примерно в то время, когда эти события происходили в 1993 году. Утреннюю сцену 4 октября у «Останкино» мы снимали ровно через 30 лет, 4 октября 2023 года. И артисты, и вся группа обязательно перед мотором смотрели хронику того, что на самом деле происходило в этот день. Это было сложно, потому что, конечно, сильно действовало на съемочную группу. Но это был правильный ход для того, чтобы настроиться.

В фильме много деталей, наполняющих его атмосферой той эпохи. Где вы находили все эти атрибуты журналистики того времени?
Реквизит было практически невозможно найти. Почти все всё повыбрасывали, есть только какие-то редкие коллекционеры, но и им иногда страшно отдавать эти вещи киношникам. Очень сложно было собрать монтажную и аппаратную с техникой. Помимо консультантов по Борису Годунову и по Смутному времени у нас были консультанты по телевидению начала 90-х. Я советовалась, потому что хотела, чтобы все атрибуты были именно 1993 года. И пейджер в том числе, не 1994-го и не 1992-го, хоть многие и говорят, что они не отличаются. Но они разные. Мы стремились к достоверности. Дело в том, что я сама помню, как выглядели эти кассеты, каких размеров были коробки, знаю разницу между VHS и Betakam. У нас на площадку приезжали не те камеры, не те кассеты, но, слава Богу, в итоге почти во всем удалось соблюсти достоверность. Если работники телевидения, которые сегодня смотрят фильм, не находят неточностей, значит, мы выбрали правильный путь. Нельзя позволять себе халтурить в таких вопросах.
Как вам удалось привлечь к работе над фильмом художника Евгения Митту?
Женя сначала совершенно не хотел этим заниматься, потому что работа художника в кино — это тяжело. Мы уговаривали его полтора месяца, и я очень рада, что он согласился, потому что я не знаю, кто лучше смог бы соединить все эти миры. Он очень добросовестно отнесся к своей работе, раскадровывал сцены, что сейчас, оказывается, обычно не делается. Я советовалась с ним даже по поводу костюмов. У нас прекрасный художник по костюмам Саша Феодосьева, но Женя видел визуальную концепцию в целом. Нам хотелось аккуратно сплести всё вместе и ничего не растерять.
Читать С Пушкиным на дружеской ноге: как кино искало образ великого поэта
Ваш прадедушка Марк Рейзен, народный артист СССР, солист Большого театра, в разные годы исполнял партии Бориса Годунова и Пимена в опере Мусоргского «Борис Годунов». В каком именно моменте фильма он появляется?
Да, к сожалению, прадедушки уже больше 30 лет нет с нами, но он появился в картине еще до того, как она запустилась. Когда я готовилась к питчингу, я много читала и про Бориса Годунова, и про разные версии произошедшего, и соответственно, про произведение Пушкина. Я смотрела, в частности, видео оперы, где был Марк Рейзен. Не потому, что он мой прадедушка, а потому, что это действительно лучший Борис Годунов. После, закрыв компьютер, я легла спать, но ночью проснулась из-за того, что прадедушка поет из закрытого ноутбука. Как выразился автор сценария: «Дайте прадеду слово». В итоге он появляется в финале фильма на одном из 11 мониторов.
Как происходил процесс подбора и написание музыки?
У нас есть оригинальная музыка Юрия Потеенко, который вдохновлялся Мусоргским и старался писать на основе его оперы. Это сложная задача для композитора, потому что сейчас принята совершенно другая манера работы с музыкой в кино. В финальной полиэкранной сцене из каждого монитора звучит своя музыка: там есть и Сен-Санс, и Рахманинов, и темы из советских фильмов про пионеров. В этом выражено то, как я воспринимаю нашу культуру, историю, жизнь. Это не всегда стройно звучит, все разное, многослойное.

Как строилась работа с оператором Михаилом Аграновичем?
На чувстве юмора. С Михаилом Леонидовичем мы общий язык нашли сразу. Несмотря на разницу в возрасте, у нас есть общая «материнская культура». С ним было весело и легко, мы понимали друг друга с полуслова. Некоторые визуальные ходы рождались у нас прямо на площадке. В какой-то момент, когда операторы работали со светом, я предложила: «Михаил Леонидович, а давайте у нас будет сейчас документальное кино?» Это было в первой сцене, когда Лиза подъезжает к омоновцу. Михаил Леонидович обрадовался, сказал: «Да, давай» — и выключил половину приборов, потому что в Москве 1993 года света на улицах ночью не было.
Читать «Самозванцы», «Зомби-вампиры из космоса», «Нечто из унитаза»: Самое интересное кино ММКФ-2025
Какие зрительские отзывы вы уже успели получить, и сошлись ли они с вашими ожиданиями в целом?
Совершенно не сошлись, потому что я вообще не ожидала такого теплого приема, особенно от журналистов. В основном люди говорят «Так и было, я всё помню». Мне было очень тревожно. Я совершенно не была готова выпускать ребенка в свет, но теперь пусть учится ходить.
А считаете ли вы себя самозванцем, в каких ситуациях?
Абсолютно во всех. Даже не знаю, где я не считаю себя самозванкой. Но я научилась относиться к этому философски. Мне кажется, если ты себя так ощущаешь, то это стимул не почивать на лаврах, а двигаться дальше.
«Самозванцы» в кинотеатрах с 5 июня.