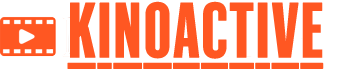На Кинопоиске продолжается показ второго сезона «Кибердеревни» – народного комедийного сай-фая про космическую одиссею гениального фермера Николая Кулибина, пытающегося сохранить благостную жизнь своей семьи на Марсе, но путешествующего ради этого по другим планетам вместе с бывшим другом, а теперь соперником, застрявшим в механическом теле Робогозина. Шутливого и неунывающего фермера сыграл Сергей Чихачёв, до этого чаще оказывавшийся за кадром в качестве артиста дубляжа и голоса популярных компьютерных игр. Мы поговорили с Чихачёвым о возвращении на Марс, нотах прошлого в кибербудущем, венеровском централе и внутренней свободе.
Совсем недавно был юбилей фильма Ридли Скотта «Марсианин», в озвучке которого ты принимал участие. Ты думал 10 лет назад, что тоже в какой-то момент попадешь на Марс?
Когда я беру работу, то никогда не думаю, что мне за это будет. Руководствуюсь лишь тем, что интересно – будь то дубляж зарубежных фильмов, озвучка компьютерных игр или мультиков, либо съемки с моим участием. Я для себя понял, что можно построить линию перехода из точки А в точку Б, но в 99 случаях из 100 ты дойдешь до вообще другого пункта и начнешь из-за этого психовать. Поэтому я очень обрадовался, когда мы с режиссером Сергеем Васильевым пересеклись на коротком метре «Деструкторы» и понравились друг другу, а потом он с коллегами придумал вселенную «Кибердеревни». Как говорил Довлатов, «талант, как похоть, трудно утаить, еще труднее – симулировать». Вот у Сергея есть талант, а мне просто, как в другом старом анекдоте, повезло с ним соприкоснуться.
Ты все-таки долго находишься внутри индустрии, а ребята зашли в кино с компьютерной графики. Долго к ним притирался?
Некоторый процесс притирки у нас происходит отчасти до сих пор, однако глобальных разногласий между нами нет. Для меня в случае с Сергеем Васильевым и «Кибердеревней» было важно, что мы с ним читали примерно одни и те же книги, нам нравятся похожие фильмы, несмотря на то, что Сергей Дмитрич меня на 20 лет младше и годится мне в ранние сыновья. Первый ролик «Кибердеревни» снимался довольно весело и быстро, это меньше всего напоминало какую-то скучную обязаловку. Мы делали его для себя, продюсеров и огромных бюджетов не было, как и необходимости отснять определенное количество материала в день, это был такой творческий стартап.
Сохранился тот уровень свободы на съемках сериала?
Когда на проект приходят продюсеры, большие деньги, заказчик в лице Кинопоиска, Яндекса, конечно, возникает множество обязательств. Но глядя на свою работу в других проектах, могу сказать, что на «Кибердеревне» степень свободы осталась довольно большой, нервов только добавилось, потому что есть план выработки, который необходимо соблюдать. Но в творческих придумках мы не так стеснены, как могли бы быть, что я до сих пор воспринимаю как удивительный феномен.

В «Кибердеревне» очень много смелых отсылок, в том числе к советскому кино. Тебе нужно было в кадре не только произносить знаменитые реплики, но и, скажем так, играть с отсылками к классике и классикам?
Я парился над этим много недель, еще когда учил текст и для себя репетировал сцены. Для меня был огромный вопрос, надо ли косплеить советских актеров, делать один в один то, что, например, Александр Михайлов в фильме «Любовь и голуби». Сейчас во втором сезоне у нас есть оммаж знаменитой сцене из «Берегись автомобиля» – с мотоциклом, милиционером и преступником. В оригинале ее играли Смоктуновский и Жженов, и я долго думал, нужно ли мне пытаться повторить мимику, жесты. Понятно, что как Смоктуновский я не сыграю, но именно внешне скопировать могу. Так вот долгие репетиции в итоге привели к осознанию, что так делать нельзя, надо играть свое. Да, есть сцена, отсылающая к фильму Эльдара Рязанова, но я в ней не должен вести себя, как Смоктуновский в роли Юрия Деточкина, потому что я играю совершенно другого персонажа – фермера Николая, поэтому и реакции, жесты должны быть его. Точно так же, как мой коллега Денис Яковлев не копировал Жженова, а отыгрывал свою историю. Мы делаем вставки из советского кино, потому что любим его, мы выросли на цитатах и шутках из него, так что для нас такие отсылки – форма постмодернизма, привет зрителям, также выросшим на этих фильмах, который мы передаем с улыбкой и ни в коем случае не пытаемся никого обидеть.
Зрители у «Кибердеревни» принадлежат разным поколениям. Молодежь считывает эти отсылки?
Мне кажется, тут зависит от семейного воспитания: я показывал сыну «Берегись автомобиля», кто-то другой – нет. Так что, может, условные 15-летние смотрят «Кибердеревню» и думают, что мы какие-то шутки и сцены придумали сами, даже не подозревая, что до нас это уже сделал Эльдар Рязанов или другие советские режиссеры.

После первого сезона ты больше откликов получил от тех, кто считал отсылки, или, например, от тех, кто воспитан не на советском кино, а на компьютерных играх, которые ты озвучивал, хотя, предполагаю, что это тоже разновозрастная аудитория.
Мне 52 года, и я с большим удовольствием играю в компьютерные игры, когда на это есть время. Это огромный пласт культуры и новый вид искусства, который появился при нас, – так что, с этой точки зрения, мы живем в великую эпоху. Я не устаю повторять, что пока человек играет в компьютерные игры, он не делает ничего плохого! А что касается твоего вопроса, то на показах «Кибердеревни» в разных городах я вижу и подростков, и условное поколение их родителей, даже 70-летние люди приходят, так что «Кибердеревня» работает на широкий круг зрителей. Одним нравится история про фермера на Марсе, другим – про робота, третьим – считывать отсылки к советским фильмам. «Кибердеревня» получилась добрым кино, в том числе и с точки зрения семейной аудитории. Да, она может быть кому-то неинтересна, но совершенно нормально, если фильм или сериал тебе не зашел, ты его выключил и даже пошел ругаться в комментариях. Для этого искусство и существует! Я вообще уверен, что ругаться нужно только по поводу искусства и спорить исключительно о том, какой фильм не понравился.
«Кибердеревня» – редкий для России жанр сай-фая, и если мы посмотрим на зарубежные фильмы в этом жанре, то они как бы конструируют будущее, пусть и не всегда симпатичное. В то время, как у нас и в «Кибердеревне» в частности, особенно в нескольких сериях первого сезона, фантастика, на мой взгляд, является своего рода рефлексией по прошлому – страны, эпохи, быта отдельной семьи. Согласен ли ты с этим?
Витиеватый вопрос, поэтому попробую разделить ответ на две части. Первая – мы одни из немногих в России вообще показываем будущее. У нас даже есть конкретная дата – 2100 год, начало XXII века, хотя есть ретроспектива конца XXI века, но и для нас с тобой это уже тоже будущее, которое мы вряд ли застанем. Так что для меня в принципе идея, мысль о том, как может быть в будущем, очень важна, и я хотел бы видеть больше таких фильмов от коллег. Вторая часть ответа – по поводу количества прошлого в будущем. Я как-то не задумывался, но в какой-то момент неожиданно осознал, что многое из того, что нас с тобой сегодня окружает, родилось десятки, сотни, а иногда и тысячу лет назад. Например, когда весной мы едим блины на Масленицу, мы меньше всего думаем о том, что так отмечается восточнославянский праздник, существующий еще с дохристианских времен, для нас сейчас неделя блинов – это славное семейное времяпрепровождение. Или обычай ходить в баню, которому тоже уже больше тысячи лет. И такие обрядовые штуки переползают из одного века в другой, от одного поколения к следующему, переживая вообще все исторические, общественно-политические, социально-экономические катаклизмы. Так что я уверен, что части прошлого останутся в будущем все равно, просто какие-то физические штуки типа ватника, который носит Николай, истлеют. Хотя ватник этот старше меня, такие перестали выпускать в середине 1960-х, я не уверен, что он переживет следующий сезон. Или «буханка», на которой ездят в «Кибердеревне» – таких же еще много по стране, ее реально производит Ульяновский автозавод, и продается она порой рядом с «Теслой». Она вот точно останется! Как и шутки, которые еще нас переживут.

Но это все-таки особенность памяти нашей страны и народа? В «Кибердеревне» же, как в «Интерстелларе», путешествуют по планетам, но у Нолана есть только одна связь отца и дочери, в то время, как в «Кибердеревне» каждая планета – это своего рода кусочек ностальгии в хорошем или плохом смысле, основанный на опыте далеко не единственной семьи.
У нас всегда гораздо важнее, кто у тебя брат, сестра, папа или мама, кем вырастут твои дети, нежели, кто будет президентом, губернатором, мэром или просто начальником. Мне кажется, что в России семейные, родственные связи сильнее официоза, законов, правящих партий и государственного устройства. Возможно, я ошибаюсь, но для нас норма – это спрятать сына, который кого-то ограбил, а не сдать в тюрьму. Я не знаю, хорошо это или плохо, просто у нас вот так.
Вторая «Кибердеревня» как раз начинается с тюремного сеттинга, который сейчас популярен в российских сериалах. Твой герой при этом чемпион по способам сбежать из тюрьмы, хотя и не самым удачным. Насколько ты согласен с таким развитием своего персонажа и не было ли тебе тесно в этом тюремном антураже?
Все-таки напомню, что у нас кино, ирония, и тюрьма не настоящая, а Венеровский централ с начальником в исполнении блестящего артиста Сергея Степина, который печется о вверенном ему учреждении исправительной системы. Меня напрягало, что в конце первого сезона Николай в послании семье говорит о том, что его посадили, но не волнуйтесь, есть план. А второй сезон начинается с того, что он в тюрьме, то есть все его планы побега нарушены, хотя в итоге побег все-таки состоялся. На фестивале «Новый сезон» критики нам сказали, что в наше время про тюрьму шутить вообще нельзя, потому что слишком много отсылок к реальному времени и страшным историям. Мне понятна эта позиция и я с уважением к ней отношусь, но тут можно вспомнить и советское время. Юза Олешковского, с которым я был шапочно знаком и который имел моральное право и силы зубоскалить в «Окурочке» с «красной помадой» и «Маленьком тюремном романе». Был Сергей Донатович Довлатов, который служил охранником в исправительном лагере, о чем написал «Зону», полную горького смеха. Да, мы затронули тему тюрьмы, но есть же известная поговорка «от тюрьмы и от сумы не зарекайся». Не зарекаемся. И улыбаемся заранее.

Твоим основным партнером в «Кибердеревне» является робот, разговаривающий голосом Сергея Бурунова – тоже артиста дубляжа, который прославился раньше, чем ты. Насколько он был податлив, с учетом того, что теперь он после своих звездных ролей снова за кадром, а в кадре только ты?
У Сергея Александровича много сильных и замечательных ролей в кадре, поэтому я уверен, что на озвучку он соглашается просто ради удовольствия. Мы с Буруновым знакомы давно, когда оба весили меньше килограммов на 40, чем сейчас. Он тогда только окончил Щукинское училище и начал служить в Театре сатиры, я работал на телевидении, но мы пересекались на озвучке, которая для меня была хобби. Уже тогда было слышно, насколько Бурунов талантлив, и я очень рад, что сначала он стал известен в «Большой разнице» как блестящий мастер пародий, потом случился «Полицейский с Рублевки», после которого он стал мегазвездой. Под этим словом я не подразумеваю лимузины, а именно уровень проектов, режиссеров, сценаристов, с которыми он может работать, и в этом смысле я ему завидую белой завистью. Когда мы делали первый сезон «Кибердеревни», Бурунова, кстати, не было. Я отыграл весь сезон с Робогозиным, в костюме которого были разные люди – Игорь Богомягков, Сергей Авдеев, Маджид Сулейманов – и все они молчали. Плюс еще был пульт, который управляет головой и мимикой Робогозина, – и за ним тоже были разные ребята, включая нашу художницу по костюмам Алену Тен и даже режиссера Сергея Васильева. А вот голоса не было, поэтому я в первом сезоне играл в пустоту. Но затем появился Сергей Александрович Бурунов, который блестяще озвучил роль и сделал Николая и Робогозина слаженным тандемом. Бурунов опытнейший артист и в реальном времени, прям в секунду, расшифровывает все, что сыграно партнером, подстраивается и играет свое. Именно это и превратило черновой монтаж, когда Николай говорит с молчащей, размахивающей руками фигуркой, в диалог и напряженные сцены, где есть и конфликт, и печаль, и радость. Так что здесь заслуга Бурунова больше, чем моя. Во втором сезоне я уже знал, кто мой партнер, хотя Бурунова на съемках не было, но я представлял, как звучит его голос, и мне было легче.
У тебя же самого нет актерского образования? Озвучка тебе помогает подстроиться под любого партнера, даже когда его нет на площадке?
Озвучка мне очень помогла и помогает до сих пор, и это касается не только «Кибердеревни», но и любого другого проекта. Когда я не знаю, что играть, то сначала закрываю глаза и отыгрываю сцену голосом – мне так проще. Мы же в озвучке работаем с воображаемыми партнерами. Более того, в «Кибердеревне» же еще почти никогда нет фонов, мы снимаем, в основном, на натуре, поэтому я понятия не имею, что там в итоге нарисуют, так что без воображения никуда, к тому же актерская профессия в принципе построена на том, что мы притворяемся. А насчет образования – я уверен, что работа с дипломом часто вообще никак не связаны. Михаил Семенович Щепкин играл в крепостном театре, работал суфлером, потом вышел на сцену и стал иконой, но училище имени себя, естественно, не оканчивал. Значит ли это, что он был плохим артистом? Нет!

У тебя узнаваемый голос, и многие твои коллеги по дубляжу сейчас еще активно озвучивают аудиокниги, но ты этого почти не делаешь. Почему?
Я не люблю эту работу, хотя отношусь к ней с уважением. В мое студенческое время была шутка: преподаватель спрашивает студентов, что нужно, чтобы написать «Войну и мир», и они отвечают – огромный талант, знания и так далее, а один встает и говорит, что нужно иметь каменную жопу. Вот с аудиокнигами тоже нужна усидчивость, чтобы сидеть и не терять концентрацию и интерес, с которым ты всегда должен читать книгу, потому что если ты выключишься и начнешь бубнить, то текст станет совершенно не интересен слушателю. Есть замечательные артисты, которые это любят, – Александр Клюквин, Сергей Чонишвили, Всеволод Кузнецов, с которыми я всегда горжусь работать, если мы пересекаемся на проектах в дубляже. А мне усидчивости для аудиокниг не хватает.
Ты себя сейчас больше ощущаешь звездой «Кибердеревни» или все-таки культовым для многих закадровым голосом?
Я никогда не ощущал себя звездой и надеюсь не ощутить, потому что иначе произойдет распад личности. Я совершенно обычный чувак, который спускается в метро, ездит на мотоцикле, заправляется на заправках, сам водит машину, косит траву на даче. Наверное, в озвучке у меня больше наработок, я все-таки в ней больше 30 лет, у меня в официальной фильмографии фильмов 700, компьютерные игры перевалили за тысячу, и мне приятно, когда на каких-то встречах подходят опять же абсолютно разные люди, с которыми мы можем поболтать про игры, на которых они выросли, или сделать совместную фотку.
У тебя довольно интересный опыт в индустрии, а я как раз про нее задаю часто последний вопрос. Чего тебе сейчас не хватает в российской киноиндустрии?
Надежды и понимания, что будет завтра. Это касается любого жанра, любого производителя, любого актера, режиссера и сценариста. Мы не можем убежать от тяжелой общественно-политической ситуации, так как живем в ней и во многом с этим, на мой взгляд, связан нынешний расцвет сказок. Но не думаю, что этот ответ уникален для тех, кто занимается кино, он актуален для каждого гражданина Российской Федерации.
Смотрите второй сезон «Кибердеревни» на Кинопоиске.