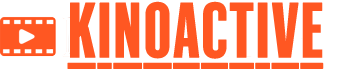В этом году одним из членов жюри фестиваля короткого метра и дебютного кино «Короче» стал Михаил Врубель. Кино-Театр.Ру поговорил с продюсером фильмов «Притяжение», «Лёд», «Сто лет тому вперёд» и «Буратино» о будущем, идеальном коротком метре и внедрении нейросетей в индустрию.
Какие у вас ожидания от фестиваля?
Мне стыдно признаться, но я никогда не был на «Короче». Видимо, ждал, когда позовут в жюри (смеется). Ожидания у меня очень позитивные. Мы с большим вниманием относимся к фестивалю, отправляем сюда коллег. Я думаю, что на сегодняшний день, когда «Кинотавра» уже нет, «Короче» — это главный смотр короткого метра, что очень важно, ведь именно в нем зачастую дебютируют и сценаристы, и режиссеры, и артисты. Это огромная возможность для молодых кинематографистов заявить о себе. Я как один из создателей Школы кино «Индустрия» к этому типу кино отношусь с особенным трепетом.
Каким был ваш первый кинофестиваль?
Мне кажется, «Кинотавр». В Сочи он шел параллельно с кинорынком, где я оказался еще в 2012 году, когда мы промоутировали фильм «Джунгли»: тогда же Сергей Светлаков на слоне выезжал к руководителям кинотеатров. В то время я был еще без аккредитации на фестивале, а потом, наверное, с 2016 года начал ездить на него ежегодно. Это было открытие новой стороны кино. Время, проведенное там, мы всегда старались выстраивать вокруг огромного количества общения как с теми кинематографистами, которых ещё не знали, так и со своими близкими друзьями. Это было очень классное место с точки зрения обмена опытом, сочетания официального и неофициального общения.
Вы уже думали над тем, как будете подходить к оцениванию кино? Как творец, продюсер или зритель?
Сложно так сразу разделить. Это зависит от самой работы. Есть проекты, которые ты видишь с продюсерской стороны: оцениваешь их внятность, заход в конфликты, работу с актерами и так далее. А есть проекты, которые ты оцениваешь с точки зрения оригинальности. Может быть, в них не всё понятно, и ты даже не со всем согласен, но работа своей необычностью вызывает интуитивное ощущение, что её автор может вырасти в большого мастера. Важно и то, в каком жанре история сделана: к комедиям и драмам очевидно подходишь по-разному. Поможет в оценке и разнообразие в жюри этого года. Я уже предвкушаю обсуждения и дискуссии, которые позволят увидеть проекты со всех сторон. Мне это особенно интересно, так как я знаю разные судьбы наших выпускников.
Короткий метр сложно дистрибутировать. Чаще всего, это поле для эксперимента.
Как его правильно поддерживать?
Мне кажется, что в коротком метре нужно забыть про платную дистрибуцию. Каждый режиссер или команда создателей фильма должны заниматься его промоушеном в социальных сетях. Так выстрелила работа Жоры Крыжовникова под названием «Проклятие». Сначала её показали на «Кинотавре», а потом выложили в интернет. В итоге короткометражный фильм набрал семь миллионов просмотров и запустил его карьеру. У некоторых работ наших студентов и выпускников тоже набралось несколько миллионов просмотров в социальных сетях. Это великолепный способ многое про себя и свою работу понять — тут никого не обманешь, насколько крутым получился короткометражный фильм, настолько большим и будет отклик. Но если с коротким метром сидеть дома или показывать его в местах, где нет притяжения аудитории, то ничего точно не будет. Активность и самопрезентация важна для любого кинематографиста. Главное — сделать так, чтобы об этой работе узнали твои потенциальные коллеги: продюсеры, платформы, команды.

Какой ваш идеальный короткий метр?
Я могу рассказать о том, чего я точно не хочу видеть. Не хочется смотреть банальные вещи. Я понимаю, что все сюжеты так или иначе повторяются, но всё равно есть место необычным решениям, подходу к сценарию, к работе с актёрами, к вытаскиванию конкретики в мизансценах. Это и делает произведение уникальным. Мне интересно жанровое разнообразие. Может, где-то неожиданно появится компьютерная графика, элементы научной фантастики. У меня есть большой интерес к новым технологическим решениям, темам будущего, которых, как мне кажется, не хватает на российском экране, тем более в коротких метрах. Естественно, мне интересно, когда раскрываются новые артисты или уже известных актеров показывают в новых амплуа. Классный юмор — тоже редкая вещь. В 2017 году на «Кинотавре» с огромным отрывом победила работа Руслана Братова «Лалай-Балалай». Сюжет в том, что пьяные мужики решили прокатиться на карусели. Но то, как это было сделано с точки зрения юмора, деталей, актёрской работы, глубины проникновения в состояние героев, заставляло зал взрываться! Я бы даже сказал, что не знаю, где ещё, кроме Жоры Крыжовникова, видел настолько смешные вещи: мой личный топ комедий — это «Горько!», «Лалай-балалай», «Мальчишник в Вегасе» и «Впритык». Естественно, хочется и трогательных и драматических вещей, которые хорошо интегрируются в короткий метр.
Раз упомянули будущее, хочется спросить, как вы относитесь к внедрению нейросетей в кино?
Это классно! Мы начинаем в этой области экспериментировать, делать с командой стартапы, но пока никаких подробностей не будет. Моя гипотеза касательно того, как нейросети будут применяться, такова: они помогут автоматизировать многие процессы и убирать менее творческий труд. Надо быть к этому готовым. Мне кажется, что залог успешного развития человека будущего — в креативном подходе ко всему. Нужно быть тем самым создателем, который может пересобрать сам себя и придумывать что-то новое, ведь всё остальное будет автоматизировано. Может, не прямо сейчас, но когда-то это случится. Скорее всего, автоматизация произойдет в полной мере в момент, когда робототехника полностью сможет освоить возможности ИИ. В киноиндустрии внедрение нейросетей приведет к тому, что путь автора — сценариста, продюсера, художника — к созданию произведения сократится. Это даст очень серьезный толчок к развитию, особенно в анимации и компьютерной графике. Сейчас графика — самый долгий период в создании фильма. Сократить время, затраченное на неё, хотя бы в два раза — огромное счастье. Всегда хочется увидеть результат того, что ты делаешь, как можно быстрее.
Вы верите в создание полноценного сценария нейросетью?
Сегодня я верю в нейросеть как в редактора, но не в полноценного сценариста. Я пробовал делать с помощью искусственного интеллекта разное, и мой опыт подтверждает, что пока результат недостаточно хорош. Главное — не бояться. То, что ты не можешь предотвратить, как известно, надо возглавить, либо принять активное участие.
У вас нет опасений работать с дебютантами. «Лёд» — дебют Олега Трофима, а «Лёд 3» — Юрия Хмельницкого. Как определить, что дебютант заслуживает внимания?
Могу рассказать на конкретных примерах. Когда обсуждалось создание фильма «Лёд», у нас был мини-тендер между Олегом Трофимом и еще одним более опытным режиссером. В Олеге нас зацепило то, что он сделал презентацию со своим художественным видением на 120 или 140 слайдов. Поскольку мы создавали мюзикл, то для нас было важно видеть его работы в рекламе и клипах. Все вместе создало ощущение от Олега как от большого художника. При этом, безусловно, очень важно продюсерское присутствие на площадке рядом с дебютантом: на «Льду» рядом была наш легендарный креативный продюсер Алина Тяжлова. Первое время мы с Сашей Андрющенко также наблюдали за съемочным процессом. Когда поняли, что всё в целом работает, устранились. Нельзя сказать, что это был простой путь. Олегу нужно было добиться доверия многих звёздных артистов. Но по материалу первых дней стало ясно, что он справляется. С Егором Абраменко, режиссёром «Спутника», была другая ситуация. Во-первых, он снял свой Proof of concept — короткий метр, такой мини-«Спутник». Сам фильм получился, конечно, совсем другим, но основа с космонавтом, который привез внутри себя нечто из космоса, была. Во-вторых, он поработал режиссером второго юнита на «Притяжении» рядом с Фёдором Бондарчуком. Мы с ним поснимали и рекламу, так что он однозначно был готов к съемкам фильма.
Сейчас, когда появились дебютанты Школы кино «Индустрия», сомнений стало еще меньше. Этих людей ты понял, работал с ними, видел их короткие метры. Саша Андрющенко, например, Юру Хмельницкого взял своей правой рукой на «Сто лет тому вперед». Юрий тогда снимал второй юнит, готовил раскадровки. Что еще нужно, чтобы запустить проект с режиссером? Все же когда-то были дебютантами.

Какие есть сложности в продвижении режиссеров-дебютантов?
Вопрос продвижения — это продюсерский вопрос. У нас не так много режиссеров, имя которых поможет промокампании. Я думаю, что это Фёдор Бондарчук, Жора Крыжовников, Эдуард Оганесян, Клим Шипенко — возможно, я кого-то забыл, но их правда немного. Все остальные с точки зрения зрителя находятся на равных.
Растет ли спрос на новых продюсеров?
Спрос на талантливых людей в индустрии всегда устойчиво большой. При этом сейчас я не смогу точно сказать, насколько хороша ситуация для новичков. Произошло небольшое охлаждение рынка. Какое-то количество проектов закрылось, думаю, что столько, сколько в прошлые годы, снимать уже не будут. На мой взгляд, это хорошо, так как возможность. Как продюсер вообще дебютирует в нынешних обстоятельствах, когда проще всего работать на платформу? У продюсера должна быть не просто предпринимательская жилка, а жилища. Человеку это должно быть очень интересно с точки зрения бизнеса, так как риски надо брать на себя существенные. А в начале пути они просто огромные. Без азарта никуда! Надо быть не только «про искусство», но и про связь со зрителем, заработок денег и так далее. Пока, я, к сожалению, не вижу плеяду тех, кем мы были 13 лет назад. Кто-то, конечно, гораздо раньше начинал, но я говорю о ровесниках: Эдуарде Илояне и других ребятах из Yellow, Black and White, Петре Анурове, Илье Стюарте, Дане Шарапове и других. Сейчас мало тридцатилетних людей, открывающих свои студии, а очень хочется видеть таких как можно больше.
Каким должен быть продюсер будущего? Какие тренды сейчас надо ловить новичкам?
Во-первых, продюсер должен хорошо разбираться в кино, понимать, как пишется сценарий. Сам я никогда не писал полноценный сценарий, может, и не напишу, но знаю, как придумать идею, как ее собрать вместе с группой, оценить с точки зрения редактора. То же самое с монтажом. Должна быть серьезная экспертиза и в промокампаниях. Я представляю, как отличить плохой рекламный ролик от хорошего, как его улучшить. Уверен в том, что смогу оценить мастерство актера передо мной. Все эти навыки важно и нужно в себе развивать. На мой взгляд, единственный способ это сделать — прокачивать насмотренность. Ты должен смотреть много-много кино, читать много сценариев, смотреть трейлеры и сравнивать увиденное с результатом — с количеством зрителей, отзывами зрителей, или успехом на фестивалях.
Второе важное умение — это находить общий язык с разными типами людей. Язык — это широкое понятие: с творцами он один, с юристами ты говоришь на языке договоров, рядом с финансистами можешь проанализировать финансовую модель, а к людям из корпораций идешь с презентацией. Этот «мультиинструментализм» в смысле подхода к человеку должен быть искренним. Мне, правда, интересно общаться как с инвесторами, так и с творцами. В-третьих, продюсеру надо будет осваивать технологии искусственного интеллекта или иметь рядом команду, которая будет этим заниматься. Важно, чтобы специалист смог из появившейся идеи как можно быстрее сделать презентацию, короткий концепт, и пойти ее показывать. У нас недавно закончился курс креативных продюсеров в «Индустрии», который мы с Сашей Андрющенко провели, чтобы найти себе новых коллег. Ребята там приходят с презентациями, которые покруче тех, что мы делаем. Поэтому, да, работа с нейросетями — объективная необходимость.

Вы говорили, что когда увидели Сашу Петрова, поняли, что он «гипербольшая» звезда. Как развивать чуйку на людей?
Честно говоря, нет никакой заслуги в том, чтобы оценить артиста уровня Саши Петрова — это оценила в итоге вся страна. Валерий Тодоровский, когда ему задали на интервью вопрос «как определить звезду?», привел такой пример: идут пробы, и вдруг ты замечаешь, что камера больше смотрит на одного из актеров, в физическом смысле не может от него оторваться. Если не вдаваться в дебри нейропсихологии, то это звезды — это люди к которым ты испытываешь необъяснимый интерес. Ты просто чувствуешь его. Такие личности вызывают подобные ощущения у большинства людей. Я это осознаю не как профессионал, а как человек, обычный зритель. Просто понимаю, для чего я это делаю. Сравнимо с музыкальным хитом. Так как я работал в музыкальном бизнесе, то могу сказать, что хит опознается в секунду как профессионалом, так и любым слушателем. Никакого подпольного хита не существует.
Как сейчас фестивали помогают в продвижении кино?
Да, я боюсь, что немногие фестивали в мире имеют власть над умами. Понятно — Канны, в гораздо меньшей степени — Венеция и Берлин. Больше них, наверное, только такие премии как «Золотой Глобус» и «Оскар». Мне кажется, что в России в таким брендом, безусловно, был «Кинотавр». Сопоставимых с ним по влиянию пока что нет. Надеюсь, что это поменяется. Но настоящий успех случится, только если совпадут интересы жюри и зрителя. Тот же Каннский фестиваль даёт хороший буст интереса, но остальное зависит от фильма. Победителя прошлого года — мою любимую «Анору» — мы все прекрасно знаем. В 2021 году там же победил фильм «Титан», который не вызвал никакого зрительского интереса. «Анатомия падения» — классное кино, но тоже не ставшее настолько популярным, а вот «Треугольник печали», получивший ветвь в Каннах 2022 года, выстрелил. Поэтому с точки зрения продвижения — бывает очень по разному.
Такое положение фестивалей стоит сформулировать как проблему?
Наверное. Я просто не так глубоко понимаю устройство фестивального мира. Если это проблема, то я не знаю ее решения. Это вопрос очень долгого периода. Надо что-то делать десятилетия, чтобы это возымело влияние. Например, фестиваль короткого метра — это важнейшее, но очень индустриальное событие. Надеюсь, что фестивали, показывающие сериалы и полный метр, будут развиваться и заслуженно получат признание зрителя.
Что делать молодым режиссерам на фестивалях?
Я бы на их месте в первую очередь представлял ту работу, с которой приехал. Во-вторых, узнал бы, будут ли на этом фестивале питчинги, и даже попробовал бы выступить там. В-третьих, смотрел бы другие работы и пытался бы выстраивать связи с теми, чьи проекты мне понравились. Чего я бы не делал — я бы не навязывался, не ловил бы всех, кого не знаю, и не давал им визитки. Это бессмысленно и даже создает ненужную дистанцию. Главное — демонстрировать свои работы на уровне снятого или на уровне идей в форматах, которые удобны тем, кто это смотрит, и знакомиться с коллегами своего поколения.

Вы позиционируете себя как соавтора фильмов. Насколько сложно найти баланс между тем, что хочется зрителю, и тем, как хочется сделать самому? Или конфликта между этими составляющими нет?
Конечно, этот конфликт всегда есть. И как по мне, конфликт, который не дошел до насилия, — это хорошо. В этом состоит большая часть продюсерской амбиции. Я каждый раз сам себе задаю вопрос: «Насколько сложную вещь ты можешь показать максимально широкой аудитории?» В этом плане мой любимый фильм — это «Лёд 2». Мне кажется, что тема принятия смерти близкого человека очень непростая, и тем не менее кино смогло привлечь шесть миллионов зрителей. «Притяжение» — это тоже для меня очень важная картина, потому что в ней заложены не самые распространенные сегодня мысли про отношение к чужому. Эта зона «глубокого в широком» вызывает у меня наибольшее любопытство.
Могу рассказать небольшую деталь, которая понятно иллюстрирует это. В фильме «Лёд-2» у нас была сцена, когда герой Саши Петрова после смерти Нади Лапшиной, сжигает ее коньки и кубки. Персонажу настолько больно, что появляется иррациональное чувство, будто героиня Аглаи Тарасовой его предала. Некоторые коллеги, в том числе наш сопродюсер Антон Златопольский, считали, что ее нельзя оставлять в фильме. Даже мне было больно вырезать это, а Жоре Крыжовникову — особенно. Тогда мы договорились о фокус-группах, которые должны оценить, надо сохранить или нет. Фокус-группы категорически не приняли эту сцену: для них это было сжигание памяти. Мы как создатели картины можем увидеть в этом глубину, яркую деталь, а зритель после такого не сможет простить героя.
Когда, как вам кажется, закончится дефицит сценаристов?
Он закончится, когда большая часть тех, кто хочет стать сценаристом, будет жить в машинах, как это происходит, условно, в Голливуде. Это шутка, но в ней есть доля правды: большая часть пишущих сценарии не достигнет мегауспеха, но один из ста — да. Пока не будет такого уровня конкуренции, дефицит не будет устранен. Хотя и в Штатах тоже, мне кажется, есть большие мастера, а дальше все равно дефицит, просто не настолько яркий, как у нас. Можно долго рассуждать, на самом деле, когда закончится дефицит сценаристов, талантливых футболистов, теннисистов, певцов, бизнесменов и так до бесконечности. Во время этих рассуждений подключается и обман восприятия. Когда мы говорим о дефиците, мы думаем о высшем уровне, однако больших, настоящих, успешных профессионалов в любой сфере немного. Поэтому дефицит будет всегда. Мы в Школе кино «Индустрия» взяли ситуацию с дефицитом в свои руки и страшно довольны этим.
Сейчас проекты «Водорода» вдохновлены ностальгией: «Сто лет тому вперед», грядущий «Буратино». Это ответ на желания зрителя или самим создателям интереснее исследовать эти темы?
На это влияет сразу несколько процессов. Какие-то из них происходят внутри компании, какие-то — в российском обществе или в мире. Во-первых, «Водороду» всегда было дико интересно экспериментировать. «Сто лет тому вперёд» — это история, в которой ностальгическое сочетается с прорывными технологиями и темами будущего, которые очень важны для меня сейчас. Я вообще считаю, что этот проект больше про будущее, чем про ностальгию. «Буратино» — это наш первый заход в сказки. Мы недавно с Фёдором Бондарчуком представляли кинотеатрам этот фильм. В этом году, кстати, творческому союзу «Водорода» и Art Pictures Studio исполнилось десять лет. Сказки для нас — тоже новая область несмотря на то, что писать «Буратино» мы начали еще до выхода «Чебурашки». Касательно зрительского восприятия замкнулись, на мой взгляд, два больших тренда. Первый — это, интерес к брендам, о которых ты уже что-то слышал. Очень сложно оригинальной истории конкурировать с теми, у кого уже есть имя. Во-вторых, на зрителя влияет трагичность, драматичность, неопределенность событий вокруг. Тренд на уход от сегодняшнего дня объясним: хочется простых, понятных, надежных сказок, в которых все заканчивается хорошо.